«Пути общества и власти расходятся. Для власти разговоры о мире выглядят как подталкивание к какому-то торгу. Мы видим, что позиции России пока ультимативны в разговорах с Западом. Дескать, пока вы не примете нашу точку зрения, мы не будем с вами говорить. А люди согласны на компромисс, чтобы снять главную тревогу и не наступило самое страшное. Не знаю, готова ли власть сейчас к этому прислушаться. Но опора на общество тем не менее сохраняется», — говорит политолог Илья Гращенков. О настроениях в элитах, том, почему «партия мира» сегодня в меньшинстве, грозит ли институтам власти «хунтинизация», о страшных лозунгах Охлобыстина и поисках контура трансфера он рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».
 Илья Гращенков: «Сейчас такое время, когда все по-новому смотрят на ситуацию. И государство, и общество нащупывают какие-то красные линии, границы и так далее. При этом фактически идет трансфер власти. Какие-то группы влияния меняются местами, кого-то пытаются выдавить, кто-то пытается остаться. Возникает борьба за контуры трансфера»
Илья Гращенков: «Сейчас такое время, когда все по-новому смотрят на ситуацию. И государство, и общество нащупывают какие-то красные линии, границы и так далее. При этом фактически идет трансфер власти. Какие-то группы влияния меняются местами, кого-то пытаются выдавить, кто-то пытается остаться. Возникает борьба за контуры трансфера»
«Население России за последние 60 лет не испытывало столь серьезного эмоционального давления, такого уровня тревоги и страха»
— Илья, присоединение четырех новых регионов к России, частичная мобилизация, жесткая антизападная речь Владимира Путина 30 сентября подняли ставки до самой высокой точки. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Где мы сейчас находимся?
— Очевидно, что мы сейчас находимся в каком-то очень важном историческом моменте. Но по поводу него больше вопросов, чем ответов. Безусловно, ставки подняты очень высоко. Хотя всегда есть место для еще большей эскалации. Речь Путина действительно была очень жесткой. В ней много было международных аспектов, силовых. Но, учитывая, что пока идет спецоперация, поводов для эскалации остается еще много. Мы только в начале этого пути. Думаю, даже ключевые мировые игроки не понимают сценарий происходящего.
Внутренних проблем в России тоже очень много. Эскалация вокруг спецоперации накладывается на разного рода нестыковки. Как мы видим, это вызывает достаточно серьезный уровень панических атак в обществе. Население России за последние 60 лет не испытывало столь серьезного эмоционального давления, такого уровня тревоги и страха. Это меня беспокоит гораздо в большей степени, чем военно-политически шаги. Тем более последние могут быть хитрой стратегией. А то, что чувствуют люди, насколько велики их шансы на сохранение привычного образа жизни и вообще выживаемости, — это гораздо важнее.
— После объявления мобилизации социологи действительно фиксируют повышенную тревожность и турбулентность в российском обществе. В ряде регионов прошли митинги, которых давно не было. Грозят ли такие настроения раскачкой общей ситуации в стране?
— Сложно сказать, потому что первые митинги были в основном как эмоциональная реакция. Обычно у людей есть социальная база, которую они готовы отстаивать во время публичных выступлений. А здесь была реакция на безнадежность и невозможность иначе повлиять на объявление мобилизации. Сейчас процесс мобилизации рутинизировался. Она не стала более широкой или менее справедливой, и пока общество успокоилось.
Илья Александрович Гращенков — политолог, эксперт по внутренней политике, руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП).
Родился 15 апреля 1983 года в Москве.
Окончил факультет истории искусства РГГУ и историческую аспирантуру.
Работал на госслужбе.
С 2012 года — руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП).
Член РАПК и европейской ассоциации политических консультантов (EAPC).
Автор популярного телеграм-канала «The Гращенков».
Дальнейшие публичные акции в обозримом горизонте планирования не очевидны. Правда, горизонт планирования сузился до одного-двух дней, недели, потому что непонятно, какие завтра будут объявлены вводные и насколько они заденут бо́льшую часть общества. В то же время из России уехали бо́льшая часть профессионально митингующих. У нас же в случае чего выходят на улицу молодежь, студенты, активные люди. А на митинге в Дагестане были женщины-матери. Поэтому еще надо изучить социальный портрет тех, кто сегодня является двигателем протеста, и в чем этот протест, когда он достигает своих целей.
 «Следующие выборы президента должны пройти в 2024 году, но мы не знаем, кто в них будет участвовать. Если Путин, то, может быть, у него будет какое-то новое предложение. Если вдруг не Путин, а преемник, то у него может быть другое предложение. Можно гадать, но конкретного ответа нет, потому что мы находимся в ситуации, когда даже странно думать о событии, которое произойдет через два года»
«Следующие выборы президента должны пройти в 2024 году, но мы не знаем, кто в них будет участвовать. Если Путин, то, может быть, у него будет какое-то новое предложение. Если вдруг не Путин, а преемник, то у него может быть другое предложение. Можно гадать, но конкретного ответа нет, потому что мы находимся в ситуации, когда даже странно думать о событии, которое произойдет через два года»
«Охлобыстин кричал, что мы падаем в пропасть. А «Гойда-гойда!» — это был совсем страшный эсхатологический лозунг»
— В своем телеграм-канале вы пишете, что главным политическим запросом для всего населения сегодня становятся надежды на мир. Раньше власть на подобные запросы откликалась быстро. А готова ли она прислушаться к запросу людей сейчас?
— Здесь у власти и общества разные взгляды на происходящее. Общество фрустрировано и очень хочет отказаться от мысли, что оно находится под угрозой самого выживания. Когда все СМИ активно рассуждают о применении ядерного оружия и всяких страшных вещах, рядовой человек не хочет об этом думать. А когда разговор об этом становится реальностью, всем нужен какой-то мир, чтобы снять угрозу.
Власть же оперирует другими ситуациями, у нее своя игра, стратегия, тактика, хитрости. Пути общества и власти расходятся. Для власти разговоры о мире выглядят как подталкивание к какому-то торгу. Мы видим, что позиции России пока ультимативны в разговорах с Западом. Дескать, пока вы не примете нашу точку зрения, мы не будем с вами говорить. А люди согласны на компромисс, чтобы снять главную тревогу и не наступило самое страшное. Не знаю, готова ли власть сейчас к этому прислушаться. Но опора на общество тем не менее сохраняется. А если тревога людей будет совсем зашкаливать, то может возникнуть если не мирная риторика, то какая-то умиротворяющая.
— Но пока, судя по речи Путина в Кремле, где было объявлено о присоединении четырех регионов, этого не прослеживается.
— Да. Особенно после выступления на Красной площади в тот же день, где один из выступающих, Иван Охлобыстин, кричал, что мы падаем в пропасть. А «Гойда-гойда!» — это был совсем страшный эсхатологический лозунг. Конечно, сейчас, когда не все успешно на фронтах и с какими-то базовыми проблемами армии, разговоры о мире раздражают. Хочется мира со стороны сильного. Но пока позиции не очевидны. Они рождают в обществе постоянные дискуссии, споры. И со стороны ура-патриотов в том числе. Мы видели выступления Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, критикующих армию. На этом фоне все обличают «партию мира». Но такое ощущение, что те, кто хотел бы перейти к мирным процессам, сегодня в меньшинстве. Начнет ли «партия мира» наращивать свои силы в ближайшее время, — вопрос открытый.
 «Кадыров региональный лидер, который собрал национальную военную бригаду, действует автономно и более эффективно, чем государственные структуры»
«Кадыров региональный лидер, который собрал национальную военную бригаду, действует автономно и более эффективно, чем государственные структуры»
«Есть люди типа Кадырова, Пригожина, которые теперь, очевидно, тоже входят в ближний круг»
— Вы думаете, в элитах сегодня преобладает все-таки «партия войны», а не мира? Но даже в Георгиевском зале Кремля в ожидании выступления Путина выражение лиц большинства присутствующих было скорее озабоченным, нежели радостным.
— Конечно, для большей части элиты все происходящее — это кошмар. Элиты у нас были воспитаны и заточены под другое, особенно финансовые, интегрированные в глобальные процессы. Но есть элиты, которые сегодня укрепились и в меньшей степени связаны с какими-то международными делами, финансами, мирной жизнью. Они сегодня во многом диктуют повестку. И, какими бы грустными ни были люди в Георгиевском зале Кремля, они не составляют «партию мира», потому что «партия мира» — это люди, которые могут принимать решения, хотя бы продвигать саму идею, что любые конфликты рано или поздно заканчивается миром и надо искать его.
Но их идеологические противники находятся в непреклонной позиции, что мир возможен только исключительно на наших условиях. А эти условия тоже не озвучены, и непонятно, что они из себя могут представлять и что включать. Конечно, «партия мира» может быть и многочисленной. Но она а) не сформирована; б) даже если начнет формироваться, то не очень понятны рычаги ее влияния, насколько эти люди умеют влиять на процесс. Сейчас очевидно, что на процесс мало кто влияет. А те, кто влияет, придерживаются жестких позиций.
— А кто сегодня влияет на процесс, помимо самого президента и совбеза?
— Конечно, прежде всего сам президент. Он принимает все решения. Ну и совбез, который эти решения разделяет и частично является их идеологом. Плюс небольшое ближнее окружение, которое в этой ситуации еще сильнее сплотилось вокруг президента. И даже если эти люди считают происходящее не совсем верным, то они как минимум не выступают ни с какой критикой, а реализуют поддержку президента со своей стороны.
Это еще часть крупного бизнеса, есть люди типа Кадырова, Пригожина, которые теперь, очевидно, тоже входят в ближний круг. То есть окружение Путина, участвующее в принятии решений, не такое уж малочисленное. Но тут ключевой вопрос скорее по другим ведомствам, по армии, силовикам. Какие они занимают позиции и может ли от их позиции зависеть подвижка в сторону более умиротворяющей риторики?
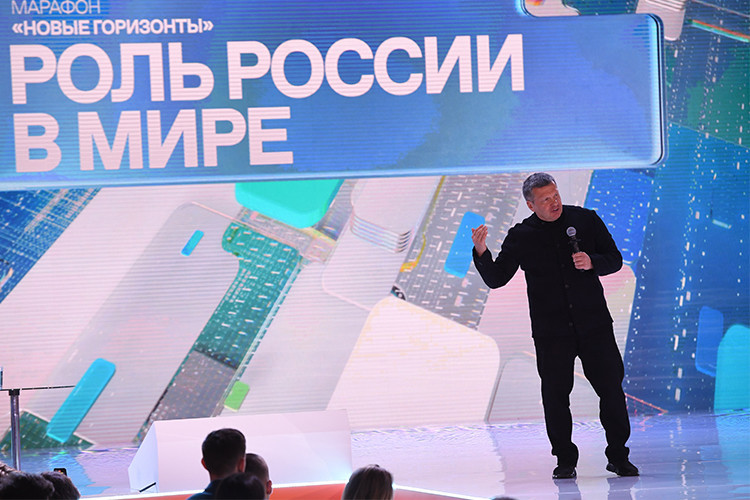 «Соловьев (на фото) и Симоньян подключаются к спору как рациональные патриоты. Дескать, если мы и дальше будем все славить и одобрять, то приблизится момент, когда выяснится, что не решены ключевые проблемы. Поэтому я бы не сказал, что они прозрели. Просто появился запрос на некую правду»
«Соловьев (на фото) и Симоньян подключаются к спору как рациональные патриоты. Дескать, если мы и дальше будем все славить и одобрять, то приблизится момент, когда выяснится, что не решены ключевые проблемы. Поэтому я бы не сказал, что они прозрели. Просто появился запрос на некую правду»
«Появился запрос на некую правду. Но не на правду с аналитикой относительно того, где мы оказались и почему»
— Все-таки о чем говорит публичная критика генералов СВО со стороны Кадырова и Пригожина, к которым примкнули вдруг прозревшие Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев? Это показатель раскола в элитах или Кадыров с Пригожиным почувствовали особую силу?
— Мне кажется, тут интересен такой момент. Кадыров и Пригожин в споре с армией демонстрируют, что они более эффективные менеджеры нынешней системы, чем бюрократический военный аппарат. Собственно, армия этим и отличается. ЧВК сам Пригожин просит оставить в серой зоне и не принимать по ним даже закона, а оперировать простыми вещами, наличными средствами и так далее. А армия полностью финансируется из бюджета, и на любые действия необходима тонна бумажек, обращений, времени и так далее. Кадыров тоже исключение из правил. Он региональный лидер, который собрал национальную военную бригаду, действует автономно и более эффективно, чем государственные структуры.
А Соловьев и Симоньян подключаются к спору как рациональные патриоты. Дескать, если мы и дальше будем все славить и одобрять, то приблизится момент, когда выяснится, что не решены ключевые проблемы. Поэтому я бы не сказал, что они прозрели. Просто появился запрос на некую правду. Но не на правду с аналитикой относительно того, где мы оказались и почему, а правду из серии того, раз уж у нас так все сложилось, то давайте рассмотрим, что у нас на данный момент. А сегодня у нас где-то не хватает формы, где-то ржавые «Калашниковы», где-то люди спят в поле и так далее.
— В своем телеграм-канале вы описываете эту ситуацию так, что бюрократическая армия представляет государство, а «серые» чэвэкашники — систему, которая базируется на сделке населения, желающего выжить, с властью, стремящейся заработать.
— Глеб Олегович Павловский, напомню, написал о системе целую книгу «Ироническая империя». Действительно, система не тождественна государству. Это некая сущность где-то между населением и властью. И когда началась СВО, ее во многом формировала система. Там же изначально не принимали участия регулярные силы. Круг участников составляли ополченцы, милиция ЛДНР, чэвэкашники, добровольцы и так далее. Все они были элементами системы, поскольку она, в отличие от государства, скорее создает под себя законы, нежели подчиняется им. Система не очень бюрократична. Как говорит Павловский, интернациональна. В свое время система проявила себя в Венесуэле, где-то в Африке, там и сям. Она такая хитрая, юркая. Поэтому ЧВК, Кадыров и прочие элементы системы показали свою эффективность.
А государство натыкается на кучу проблем. И, когда настал момент мобилизации, которую государство вынуждено проводить и задействовать для этого военкомов, губернаторов и прочих, выяснилось, что эффективность у государства меньше. И конфликт начался в простом вопросе. Почему, условно говоря, все чэвэкашники обуты и одеты с ног до головы в современную амуницию, а призывников снабжают списком, что им надо купить самим, для того чтобы отправиться на фронт?
«Пригожин не только армию критикует. Уже и Беглову от него досталось»
— Сейчас приходится пересматривать контракт между государством и системой?
— Конечно. В чем, по Павловскому, заключается этот контракт? Есть население, которое не может толком сформулировать, чего хочет. Поэтому, чтобы получить от него данные, проводятся соцопросы, еще что-то. Население артикулирует свои желания. Например, мы хотим стабильности. Совершается сделка — вот вам стабильность. Раньше эта история угадывалась. А сейчас не считывается. Люди хотят все той же стабильности, мира и выживания, а Охлобыстин им с трибуны на Красной площади кричит, что мы падаем в пропасть и нужно проснуться к неизбежному. Получается, что контракт меняется. Возникает вопрос: население в очередной раз проигнорирует это и промолчит или все-таки, когда речь идет о базовых вещах, о выживании, то может начаться ропот, как это было в Дагестане?
По большому счету СВО никто не критикует. Все понимают, что, раз мы уже внутри ситуации, продуктивная составляющая в том, чтобы находить какие-то шаги по улучшению этой ситуации. А многие из тех, кто критикует СВО, — это внешние акторы. Они не имеют внутри России большой поддержки. А критики режима, кто говорит, что СВО — это плохо, интересны скорее для внешнего мира. И это те, кто в основном уехал.
— Алла Борисовна, например.
— Да. Алла Борисовна. А те, кто критикует внутри, критикуют не СВО, а менеджмент. И здесь возникает вопрос: а кто патриот? Тот, кто говорит, что начальство гениальное и непогрешимое, а если чего-то не хватает, значит, так даже лучше? Или патриот тот, кто говорит, что у нас нет того, нет сего, здесь прокол, тут нужно менять специалистов и так далее, то есть конструктивно предлагает решать тактические задачи? Или рассуждает в стратегических задачах? Например, часть задач выполнена, давайте максимально говорить о достижении мира. Пока запрос на это есть, но он не артикулирован. И «партии мира», которая бы продвигала эту повестку, тоже пока не видно. Она есть, но атомизирована.
А Кадыров с Пригожиным, повторю, критикуют армию как эффективные менеджеры: «Мы хорошо справляемся, а эти генералы не очень, поэтому наш опыт надо распространить». А параллельно они дают заявку и на некие политические высказывания. В частности, о том, как себя вести, что делать, не просто советовать, а выступать с активной критикой каких-то решений. Возникает внутренняя конкуренция, и вносится определенный раскол, потому что общество больше доверяет армии. По всем соцопросам армия у нас на 2–3-м месте как институт власти после президента. А что такое ЧВК, людям вообще не очень понятно. И, когда создатель ЧВК критикует один из самых доверяемых институтов в стране, населению это тоже тревожно. К тому же Пригожин не только армию критикует, уже и Александру Беглову от него досталось. То есть мы видим процесс политизации, когда ЧВК выходит за рамки чисто военной компании и занимается практически политической деятельностью.
 «ЧВК воюют лучше, и многие, кто сейчас оказался на фронте, говорят, что они многому учатся у чэвэкашников. Понятно, что люди, которые в поле, всегда сильнее тех, кто сидит в штабах, учебках и так далее. Но армия боится потерять контроль, и сыгранность этих структур пока не представляется возможным. Поэтому идет конкуренция»
«ЧВК воюют лучше, и многие, кто сейчас оказался на фронте, говорят, что они многому учатся у чэвэкашников. Понятно, что люди, которые в поле, всегда сильнее тех, кто сидит в штабах, учебках и так далее. Но армия боится потерять контроль, и сыгранность этих структур пока не представляется возможным. Поэтому идет конкуренция»
«Не очень понятно, в чем запрос ЧВК. Сделать армию коммерческой или чтобы ЧВК были элементом армии и помогали ей?»
— То есть у нас фактически появились параллельные силовые структуры, которые конкурируют с традиционными?
— Конечно, они сформировались, и конкуренция есть. Но это не значит, что если у структур Пригожина и Кадырова эффективность больше, то их опыт можно мультиплицировать. В конце концов ЧВК — это еще и бизнес, который должен приносить доход. Другое дело армия, у которой есть бюджетные ассигнования, и она крутится в этих условиях. И не очень понятно, в чем запрос ЧВК. Сделать армию коммерческой или чтобы ЧВК были элементом армии и помогали ей?
В принципе, ЧВК воюют лучше, и многие, кто сейчас оказался на фронте, говорят, что они многому учатся у чэвэкашников. Понятно, что люди, которые в поле, всегда сильнее тех, кто сидит в штабах, учебках и так далее. Но армия боится потерять контроль, и сыгранность этих структур пока не представляется возможным. Поэтому идет конкуренция.
— Но можно ли сказать, что государство уже утрачивает монополию на насилие?
— Монополия на насилие — это все-таки несколько иное. Полиция, силовики, суды. Армия — это внешний инструмент. Нет, государство ничего не утрачивает. Скорее даже наоборот. А появление таких критических вбросов может даже сплотить между собой государственные институты, которым сейчас брошен вызов. С другой стороны, критика объективная. Мы же видим, как вели себя военкомы в момент частичной мобилизации, когда многие стали выполнять планы, а когда людей мобилизовали, выяснилось, что почему-то нет нужных вещей. Проблема обозначилась. Теперь вопрос: как ее решать? В публичном поле перепалкой или структурно, проводя какие-то расследования, делая выводы, меняя людей? То есть стоит вопрос о повышении эффективности и боеспособности армии. В последние годы мы постоянно слышали, что у нас вторая армия в мире, а теперь выясняется, что как минимум по многим параметрам это не совсем корректно.
— А грозят ли вооруженные группы Кадырова и Пригожина на фоне их критики генералов армии «хунтинизацией» институтов власти?
— Для власти все равно важна легитимность. Имеет значение, чтобы были выборы, понятные люди, чтобы было ясно, откуда они взялись. Иначе происходит «хунтинизация». Выясняется, что если людей не выбирают и нет прозрачной процедуры, то начальником может стать кто угодно. Как и бывает при «хунтинизации». Приходит какой-нибудь кадровый военный или даже не военный, говорит, что за ним армия, и объявляет себя главой государства. Таких примеров в истории много. Чтобы не идти по этому пути, не искушаться, конечно, при всей эффективности серых структур мы должны понять, что их статус во многом их и ограничивает. Это все-таки не армия, а структуры, действующие параллельно с армией.
«Озлобленные патриоты — это те, кто озлобился на систему как таковую и считает, что ее надо коренным образом менять»
— Вообще, в обществе сегодня растет запрос на критику власти?
— Запрос на критику власти растет пропорционально непониманию населения, что происходит. Когда люди пытаются понять цели, когда и что, то сталкиваются со стеной молчания. Тут и появляется запрос на критику. Среди них есть рассерженные и озлобленные патриоты. Я бы эти группы разделил. Рассерженные патриоты — это те, кто поверил власти, а она их в некоторых аспектах разочаровала. И теперь они требуют санкций, каких-то замен, решений и так далее.
А озлобленные патриоты — это те, кто озлобился на систему как таковую и считает, что ее надо коренным образом менять, выдавливая из нее всех, кто мыслит не так, как они. Их озлобленность проявляется в том, что многие требуют репрессий, преследований и подобных жестких мер. Их позицию понять можно. Это во многом добровольцы, люди, которые по своей воле во все это включились, многие сами находятся на фронте, поэтому считают, что имеют право голоса. Но поскольку они стали критиками власти, то для нее переместились в нишу оппозиции, которую раньше занимали либералы.
Остальные, те, кто исповедует даже не либеральные взгляды, а какие-то позиции здравого смысла, задаются вопросом стратегического характера: как мы тут оказались и как нам отсюда выходить? Но, поскольку этот вопрос менее прикладной и более общий, отвечать сейчас на него особо некому. Тем более горизонт планирования — один день. Где достать те или иные ресурсы, что делать в постоянно меняющейся картине мира? Может быть, длительная стратегия есть у президента. Но он ее озвучивает ситуационно. И мало кто предугадывает его следующие шаги.
— Как обычно. Но в целом запрос на критику растет?
— Да. Но большинство это очень плохо артикулирует. Люди косноязычные говорят: «А че вообще? А че будет? А сколько все продлится?» А запрос на критику появляется, когда люди четко артикулируют свои вопросы. Когда они пытаются понять, что делать, когда военкомы нарушают требования частичной мобилизации, как возвращать людей, бронировать специалистов. Если нет этих механизмов, возникает критика. Почему нет того, кто ответственный, что будет с военкомом, который нарушил закон, его отставят или не отставят, посадят, не посадят? Требования большей законности и формируют коридор для критики.
 «Первоначальная эйфория от пересечения границы сменилась разочарованием. Например, сразу после 21 сентября запрещенный у нас «Фейсбук»* пестрел сообщениями с фотками типа: «Поздравляйте, я перешел границу!», «Привет, Грузия!». А теперь люди пишут совсем другое: «К кому можно подселиться?», «Ищу комнату в Ташкенте», «Я психолог, помогите с подработкой»
«Первоначальная эйфория от пересечения границы сменилась разочарованием. Например, сразу после 21 сентября запрещенный у нас «Фейсбук»* пестрел сообщениями с фотками типа: «Поздравляйте, я перешел границу!», «Привет, Грузия!». А теперь люди пишут совсем другое: «К кому можно подселиться?», «Ищу комнату в Ташкенте», «Я психолог, помогите с подработкой»
«Сейчас очень многие специалисты свалили в никуда, но готовы вернуться»
— Сейчас очень многие специалисты уехали из страны. Насколько это критично и необратимо?
— В принципе, обратимо. Но сколько это займет времени? Если говорить о самом начале, то были прогрессисты, которые понимали, что если конфликт с Западом неизбежен, то к нему надо готовиться. Если Запад воюет дронами, значит, нам нужны свои дроны. Нужны IT-технологии, целые системы в науке и прочем. А это можно достичь только путем некой либерализации внутреннего пространства, чтобы ученые, финансисты, инвесторы приходили. Такая рыночная модель. А им в последние годы давали от ворот поворот. И все, кто пытался коммуницировать с государством на своих позициях, сталкивались с неприятием бюрократии. У нее свои закупки, компании и так далее. Поэтому последние 10 лет люди находили себя либо в других странах, либо в иных отраслях.
И сейчас очень многие специалисты свалили в никуда, но готовы вернуться. Они быстро столкнулись с тем, что себя нужно кормить, поить и одевать в новых, суровых условиях. И первоначальная эйфория от пересечения границы сменилась разочарованием. Например, сразу после 21 сентября запрещенный у нас «Фейсбук»* пестрел сообщениями с фотками типа: «Поздравляйте, я перешел границу!», «Привет, Грузия!». А теперь люди пишут совсем другое: «К кому можно подселиться?», «Ищу комнату в Ташкенте», «Я психолог, помогите с подработкой».
Поэтому кто-то уже возвращается. Многие наверняка думают об этом. Но тут опять вопрос: наше общество будет их продолжать клеймить предателями или, наоборот, общество хочет, чтобы они вернулись и в дальнейшем продолжали формировать для России рынок IT-технологий, финансов и прочего? Без участия уехавших специалистов развитие страны будет непростой задачей. И сейчас очень важно остановить новый исход. Но тут надо понять: либо мы идем по государственно-мобилизационной линии, когда все эти люди не нужны, либо по пути экономическому, когда без специалистов невозможно реализовать план развития страны.
— Вы не исключаете, что возможно введение мобилизационной экономики? И как в этом случае изменится жизнь простых людей?
— Сейчас все к тому идет. Проблемы нарастают, а их решений не видно. У нас экономика выживает в рамках государственных корпораций, промышленности, какого-то сектора добычи. Это экономика не развития, а поддержания, фронтовая экономика. Но сейчас не XX век, сейчас не нужны, как в 1941 году, заводы, на которых точили снаряды, переоборудовали автомобили в танки. Сейчас надо выпускать те же дроны, совершенные средства коммуникации, еще что-то. Но ввиду западных санкций все отрасли находятся в режиме выживания. Поэтому возможен какой-то госкапитализм. Но он не может иметь цели развитая, а только оборонительные, окопные. Сейчас все идет именно к этому, но стратегически мы должны прийти к чему-то другому.
— Что в этой ситуации будет с малым и средним бизнесом?
— Риски мобилизации практически разрушают малый и средний бизнес. Многие уже сейчас закрывают свое дело, так как в любой момент могут лишиться возможности отвечать по своим обязательствам. Мы наблюдаем и массовый исход предпринимателей из России. Они понимают, что после возможных коренных перемен РФ уже не будет интересной для развития бизнеса. Критически снижаются инвестиции в страну. Происходит самый масштабный отток капитала за всю историю России. Хотя именно сейчас МСП могли бы решить ряд ключевых вопросов с дефицитом товаров, включая и военные потребности: берцы, амуниция, бронежилеты.
— Но пока цены на каски, бронежилеты, форму подскочили в 5–6 и более раз.
— Рынок так всегда реагирует. Если есть спрос и дефицит, растут цены. Это формула рынка. И было бы странно, если бы иначе. Попытка ограничить рынок приведет к черному рынку. Как раз сейчас рынок реагирует увеличением спроса. Если людям нужно, переоборудуйте производство, выпускайте бронежилеты, каски, чтобы насытить рынок. Помните, как во время ковида, когда не было масок, все бросились их производить? Многие на этом стали миллионерами. Как в фильме «Унесенные ветром», если помните, Ретт Батлер как раз сделал состояние на войне. Таких Батлеров все недолюбливают, но они тем не менее спасают государство, когда оно силами распределительный экономики не может добиться нужных объемов.
Мы много рассуждали о НЭП 2.0. Когда Ленин понял, что революционную Россию нельзя быстро насытить за счет государства, была объявлена политика, в результате которой появились артели, люди собрались что-то сделать. Сейчас возможно то же самое. На плечи многих переложили их судьбы, чтобы они сами себя экипировали и шли выполнять долг. Но почему бы не дать малому бизнесу насытить рынок, вместо шляпок делать каски, бронежилеты, берцы и так далее? Ведь одной мобилизацией дело вряд ли закончится.
«Фактически идет трансфер власти. Какие-то группы влияния меняются местами, кого-то пытаются выдавить, кто-то пытается остаться»
— После речи Путина вы писали, что она была выдержана в духе возвращения в СССР, а сейчас окончательно ясно, что речь идет о неосоветизме хрущевского типа. Тогда Карибского кризиса удалось избежать, лидеры США и СССР договорились. Сейчас же у многих возникают большие опасения, что второй раз такой фокус не удастся. Что сегодня может помочь предотвратить самое страшное?
— На эту тему бесполезно рассуждать, потому что Карибский кризис был результатом столкновения двух систем. Тот конфликт во многом прочерчивал линию между капиталистическим миром и социалистическим. И после Карибского кризиса этот раздел был произведен. Сейчас речь идет об ответе на внутреннюю угрозу. И Путин назвал в числе прецедентов Хиросиму и Нагасаки, а не Карибский кризис.
Когда я говорил о возвращении в СССР, то не имел в виду возвращение де-факто, а скорее — ментальное. Разрушение Союза для большинства его жителей было великой утратой. Но все по-разному вспоминают СССР. Кто-то вспоминает сталинский, кто-то — хрущевский, кто-то — брежневский. И вроде все хотели в брежневский застой, а в итоге угодили в напряженное хрущевское время. Но если тогда это был раздел между двумя системами, то сейчас не очень понятно, каким должен быть нынешний раздел и что может остановить нынешний конфликт.
— Как будут складываться отношения между властью и частью общества, которая до сих пор была лояльна Кремлю?
— Сейчас такое время, когда все по-новому смотрят на ситуацию. И государство, и общество нащупывают какие-то красные линии, границы и так далее. При этом фактически идет трансфер власти. Какие-то группы влияния меняются местами, кого-то пытаются выдавить, кто-то пытается остаться. Возникает борьба за контуры трансфера.
— И как нынешняя политическая реальность отразится на контурах грядущего транзита? Кто сможет выступить с новым предложением к стране?
— Предложения еще не озвучены. Пока есть какие-то попытки. Вот Охлобыстин что-то озвучил. Но сложно сказать: это что-то реальное или просто эмоциональный порыв? Предложений мало. Думаю, они сейчас начнут формироваться. Будет поиск сильных, которым поверит народ. Например, когда СССР прекратил свое существование и была утрачена идентичность, Ельцин ее предложил в качестве России. Сейчас тоже переломный момент, противостояние с Западом. Но при этом новой идентичности не предложено. Путин что-то контурно отмечает, но пока это не предложение. Скорее наметки. Следующие выборы президента должны пройти в 2024 году, но мы же не знаем, кто в них будет участвовать. Если Путин, то, может быть, у него будет какое-то новое предложение. Если вдруг не Путин, а преемник, то у него может быть другое предложение. Можно гадать, но конкретного ответа нет, потому что мы находимся в ситуации, когда даже странно думать о событии, которое произойдет через два года.
— Но в элитах к этому времени явно готовятся. Тот же Медведев, сменивший риторику на жестко патриотическую, вновь воспринимается как реальный кандидат в новые преемники.
— Конечно, есть политические тяжеловесы, которые хотели бы примерить на себя статус преемника. И они поддерживают путинскую риторику, пытаются выбирать свои векторы. Медведев тоже в их числе. Тем более он уже был президентом, и у него в этом смысле есть определенная фора. Понятно, что в нынешней ситуации его заявления должны идти в коннотации со словами Путина. И они максимально схожи. Может быть, Медведев даже более агрессивен и радикален. Видимо, питает надежды больше понравиться.
— А какую роль в будущем трансфере могут сыграют новые вооруженные формирования, которыми руководят Кадыров и Пригожин?
— Об их роли в трансфере можно только гадать. Не было у нас раньше ЧВК и таких, как Кадыров. Их роль в трансфере зависит от того, как они себя еще проявят и кто выступит аппаратными союзниками в их рискованной игре на критике армии. Мы имеем дело с процессами, которые еще не были реализованы. Пока это выглядит достаточно интересным предложением и игрой. Можно предположить, что если они заявили себя эффективными менеджерами, то могут стать и эффективными политическими игроками. Но, может быть, и нет. Еще непонятно, как система в целом отреагирует на эту историю, в каких обстоятельствах окажутся эти игроки и как себя поведут. Мы же видим, что сегодня векторы меняются молниеносно. Сейчас все происходит в режиме онлайн. Можно, конечно, заниматься прогнозами. Но база для этих прогнозов слишком зыбкая, и горизонт планирования очень маленький.
*Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности

Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 12
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.